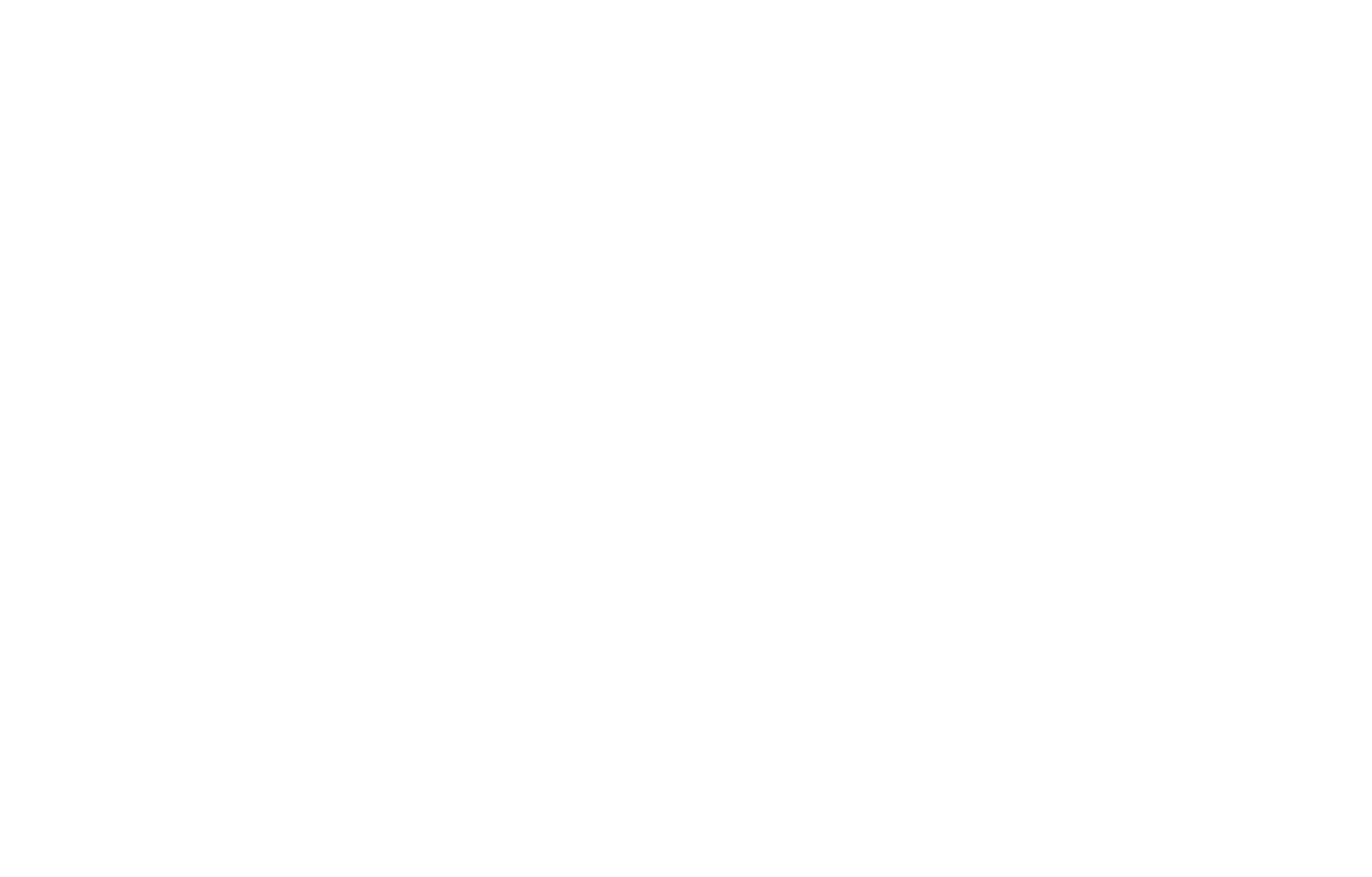За пределами человеческого
Человечество находится на поворотном этапе эволюции. Вопрос в том: в какую сторону мы движемся? Ближе к животным? Ближе к компьютерам?
Основатели Queer Nature исследуют экологическую идентичность за пределами бинарности.
Основатели Queer Nature исследуют экологическую идентичность за пределами бинарности.
За пределами человеческого
Человечество находится на поворотном этапе эволюции. Вопрос в том: в какую сторону мы движемся? Ближе к животным? Ближе к компьютерам?
Основатели Queer Nature исследуют экологическую идентичность за пределами бинарности.
Основатели Queer Nature исследуют экологическую идентичность за пределами бинарности.
Words by So and Pınar Sinopoulos-Lloyd
Photographs by Mihai Teslariu | Taynah de Sales |
Loren Cutler | Daniel | Daria Krasnenko |
Rob Griffin | Jaric Swart
Photographs by Mihai Teslariu | Taynah de Sales |
Loren Cutler | Daniel | Daria Krasnenko |
Rob Griffin | Jaric Swart
В экологической мысли и эволюционных науках стало трюизмом, что всё является тем, чем оно является, из-за его отношения ко всему остальному. Мы давно чувствовали, что это применимо и к гендеру, и это является центральным для обоих наших опытов трансгендерности.
Мы пришли к пониманию гендера в значительной степени через наши связи не только с другими людьми, но и с нечеловеческими сущностями: животными, ландшафтами и даже с религиозными или историческими понятиями, такими как боги или предки. Мы рассматриваем гендер как форму нашей реляционности — конечно, это перформанс для человечества, но это еще и дикий танец с одушевленным миром и с чувством Эроса за пределами человека. Мы «идентифицируем» себя как — или, возможно, было бы лучше использовать более устойчивый и космологически разумный предлог с — с реками, болотами, лишайниками, стадами овец, даже мифическими химерами. Эта концепция гендера как экосистемы — и гендера как важного современного портала к душе в неоюнгианском смысле — находит подтверждение в появляющихся теориях самости как сети. Философ Кэтлин Уоллес, автор новой книги «Сетевое Я: отношение, процесс и личная идентичность», призывает нас продолжать думать о себе как о серии процессов и сети идентичностей.
Если отталкиваться от Гераклита, то нельзя войти в одно и то же «я» дважды. Как натуралисты, мы думаем о примере дикого животного, чьи следы и метки можно отслеживать, и по его следам идти, но которое никогда не может быть поймано — по крайней мере, пока смерть не заберет его, а скорее всего, даже и после этого. Метафорой Гераклита для непрекращающихся изменений была река, и это говорит об экзистенциальном утешении и руководстве, которые многие находят в идентичности с дикими и нечеловеческими аспектами мира: они часто представляют устойчивость и непрекращающееся изменение лучше, чем истории, символы и архетипы, которые переполняют популярную культуру. Наша убежденность в том, что гендер — это мощное место повторного очарования и анимистического воображения, глубоко связанного с нашим опытом как экологических существ в экоцидной (прим.: экоцид – массовое уничтожение всего живого) культуре, только росла с каждым этапом нашего взросления.
Отношения между сущностями информируют и создают то, кем мы являемся, и мы ориентируемся как в космосе, так и в повседневной жизни, взаимодействуя с другими. Это понятие легко дается транс- и квир-людям: мы с подозрением относимся к заповеди «просто быть собой», поскольку если мы не можем воплощать то, кем является это я, ритуально (хотя гендерное воплощение не широко признано ритуалом в светской культуре), бытие — ничто. Многие другие типы людей, похоже, молчаливо понимают это, особенно те, кто живет в маргинальных (маргинализированных) местах или является частью более коллективистских обществ или движений. Вспоминается цитата субкоманданте Маркоса из EZLN в книге «За пределами сопротивления: всё», где говорится, что «истинную идентичность можно найти только» (или создать только) «через коллектив».
Эта истина простирается за пределы нашего тела, но она также прочно существует и внутри. Многие, вероятно, уже знают о подъеме исследований микробиомов животных и растений и холобионтов за последнее десятилетие, который показал, что нас населяют десятки тысяч бактерий, грибков и других крошечных друзей, которые обеспечивают основные функции наших тел, разума и, вероятно, нашей идентичности. Помимо легионов микробных существ, которые составляют огромную часть нас, даже то, что считается человеческой тканью, несет следы и отпечатки древних отношений и связей. Способность формировать воспоминания, возможно, возникла из-за первичного вируса, отслеживаемого через загадочный белок, известный как ARC. На самом деле около 5% наших геномов содержат следы ретровирусов. Существование митохондрий — генераторов энергии наших клеток — скорее всего является результатом симбиотических отношений между двумя одноклеточными организмами, которые когда-то сошлись вместе; за выдвижение этой теории биолога Линн Маргулис раньше высмеивали большую часть её карьеры.
Жвачные животные, такие как коровы, овцы и олени, могут переваривать только целлюлозу в траве, тем самым высвобождая энергию, содержащуюся в большей части мирового крахмала, из-за множества микрофлоры, живущей в их желудке. Как учит нас лесной эколог Сюзанна Симард, лес — это не просто совокупность деревьев, а сеть подземных микоризных отношений: система родства.
Может быть, мы постигаем «гендерную идентичность» не только читая теорию феминизма третьей волны в университете, но и через то, как мы относимся к другим, сейчас, в этот момент на Земле. Возможно, важной частью идентичности является то, как она может служить как призмой, так и порталом для наших привязанностей, стремлений и травм от напряженных отношений с землей и водой.
Мы «идентифицируем» себя как — или, возможно, было бы лучше использовать более устойчивый и космологически разумный предлог с — с реками, болотами, лишайниками, стадами овец, даже мифическими химерами.
Однако это экологическое — и, тем самым, зачарованное в анималистическом смысле — понятие гендера часто казалось чем-то слишком рискованным, чтобы заявлять о нем публично. Наши политические и социальные союзники беспокоились, что это поставит под сомнение «реальную», существенную или светскую природу, скажем, трансгендерной идентичности и подорвет нашу политическую борьбу за справедливое отношение.
Политические и социальные критики могли бы рассматривать это утверждение как глубокую угрозу логике контроля и индивидуализма, которые направляют различные репрессивные системы, ограничивающие экосоциальное воображение. Если другие существа бесчисленных видов и типов — от нашего местного водораздела до высших хищников в нашем биорегионе и бактерий в нашем кишечнике — делают нас теми, кто мы есть (и также буквально живут внутри нас), то где же в этом контроль и «свобода»?
Как учат нас предки, освобождение может быть в специфичности, в глубоком изучении конкретной ниши, конкретной роли. В прошлом наших предков идентичность и роль были более тесно взаимосвязаны. Постмодернистская мысль часто давала ощущение отказа от центральности ролей в экологии человека из-за очевидного замысла критики «роли» ролей в системах угнетения. Это разъединение было важно для процесса освобождения, но очевидно, что оно оставило духовные пустоты и космологические разрывы в наших мирах. Так что теперь мы спрашиваем: «Как нам это исправить?» Ниша — это не что-то фиксированное и подчиненное, а динамический узел, местоположение, которое обеспечивает связь с другими, путь к суверенитету в единственной системе, которая имеет значение в конечном итоге. В конце концов, вся экосистема — это просто ниши сверху донизу.
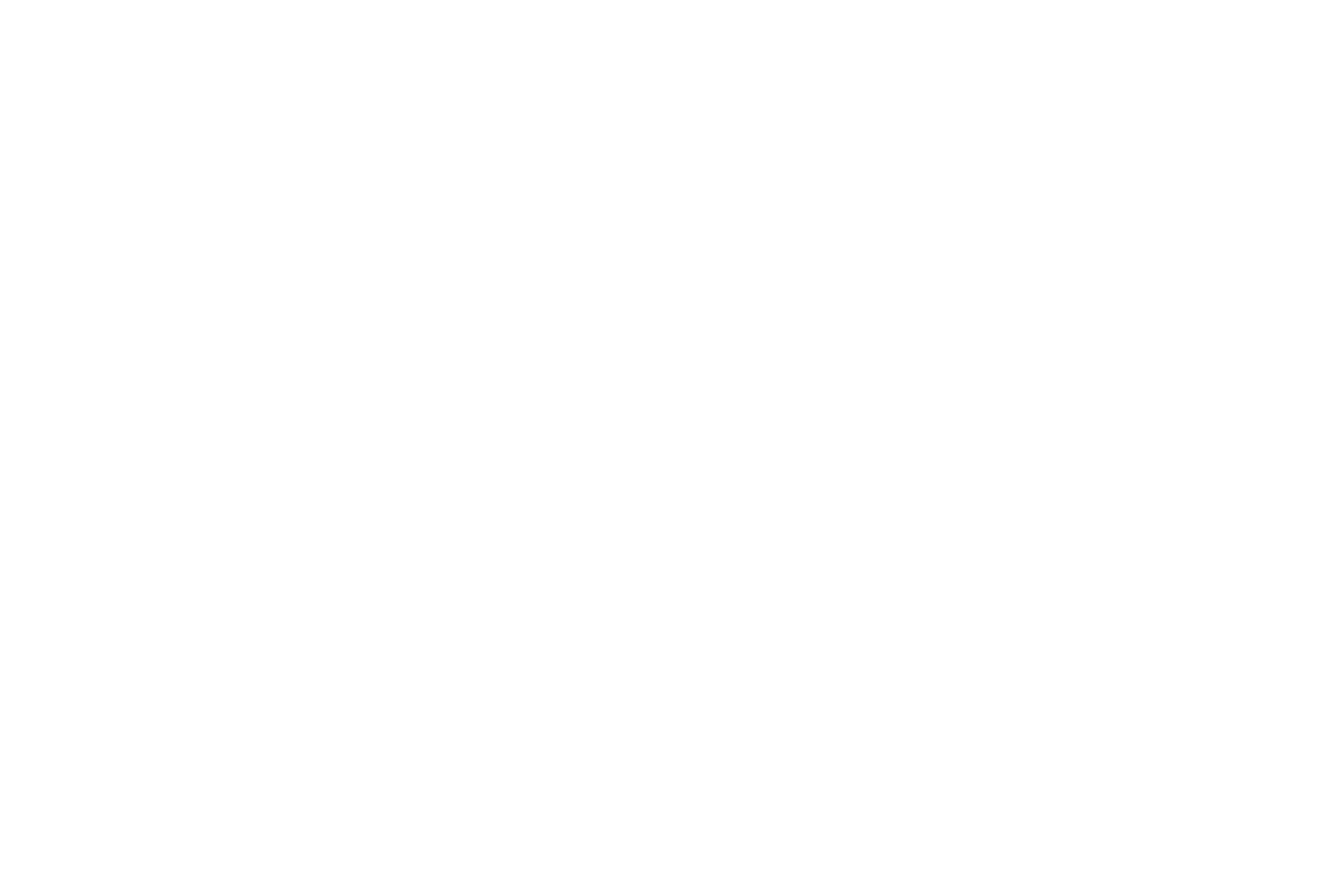
Эта свобода идентичности-роли, которую мы и другие также называли экосоциальной нишей, заключается в беглом утверждении, что «здесь возможна жизнь». Радость, красота и создание смысла возможны даже в условиях коллапса, фрагментации, дефицита. Как гусеницы, которые научились усваивать пластик, или волки, которые процветают в зоне отчуждения Чернобыля, принадлежность может быть построена или выращена из обломков рушащихся империй и идеологий. Но она не всегда будет соответствовать идиллическим мечтам наших предков. Она может быть чудовищной. И возможно, так и должно быть, потому что среди прочего, монстры являются апотропеями: они отгоняют неудачу и то, что наши предки называли «дурным глазом» (и, возможно, они отгонят современные аналоги этого, чрезмерно ограниченных людей, которым нужна хорошая космологическая встряска). Когда гендерно-вариативные люди утверждают, что наши телесные воплощения — это алтари, мы также говорим, что они — амулеты — предмет, возможно, даже более древний. Когда мы видим такую динамику, воплощенную в гендерном творчестве и гендерном сопротивлении — в принятии чудовищного и мифического, которое просочилось в уголки наших сообществ, по крайней мере, со времен эпохального эссе Сьюзен Страйкер, в котором она нашла близость с монстром Франкенштейна, — мы чувствуем изумление и благоговение, неоспоримое свидетельство священного в ландшафте, где мало других сигнальных огней. Воплощать возникающие представления идентичности публичными способами (например, дрэг) — это форма мистицизма или еретической теологии, которая сливает искусство, ритуал и идентичность в алхимию, одновременно древнюю и своевременную.
Одной из практик, которая стала важной для нас в нашей работе по обучению навыкам с учетом местных условий в группах квир-сообщества, является исследование камуфляжа как способа дрэга или перевоплощения за пределы человеческого или как своеобразного оборотничества способами, широко используемыми в животном мире. Нанося натуральные пигменты и материалы на наши тела, особенно на наши лица — эти общепризнанные маркеры человеческой личности — мы «пассуем» как что-то нечеловеческое: мох, кора, листья, ландшафты.
На мгновение мы чувствуем, как будто у Земли есть глаза, зная, что она смотрит глазами насекомых и пресмыкающихся, крадущихся и незаметных. Мы прикасаемся к этому революционному, но в то же время обычному потустороннему миру бдительности, кратко, мимолетно, и нас соблазняет эта молчаливая солидарность.
Выживание на Земле это зачастую тот еще бал-маскарад.
Одной из практик, которая стала важной для нас в нашей работе по обучению навыкам с учетом местных условий в группах квир-сообщества, является исследование камуфляжа как способа дрэга или перевоплощения за пределы человеческого или как своеобразного оборотничества способами, широко используемыми в животном мире. Нанося натуральные пигменты и материалы на наши тела, особенно на наши лица — эти общепризнанные маркеры человеческой личности — мы «пассуем» как что-то нечеловеческое: мох, кора, листья, ландшафты. На мгновение мы чувствуем, как будто у Земли есть глаза, зная, что она смотрит глазами насекомых и пресмыкающихся, крадущихся и незаметных. Мы прикасаемся к этому революционному, но в то же время обычному потустороннему миру бдительности, кратко, мимолетно, и нас соблазняет эта молчаливая солидарность. Выживание на Земле это зачастую тот еще бал-маскарад.
На идеологическом уровне игнорирование идентичности как веской экосоциальной и политической концепции (и площадки для освободительной или революционной практики и власти) — особенно трансгендерной, гендерно-креативной и других маргинализированных идентичностей — основывается на нескольких мифах. Один из этих мифов заключается в том, что идентичность — это современная вещь, что это фантазия, порожденная зацикленностью на самом себе и отключением или отклонением от некой предполагаемой реальности.
Другой миф заключается в том, что идентичность — это нечто, что сосредоточено исключительно в сфере интеллекта, абстракции или даже человеческой мысли. Но для нас идентичность во многом связана с тем, как мы интерпретируем и реализуем наши отношения с другими существами. Даже если выражаем мы ее уникальным для человека образом, она существует в системе создания смысла гораздо более широкой по охвату, чем человеческая.
Речь идет не только о мыслях, которые у нас есть о себе, но и о том, как мы чувствуем и думаем, когда взаимодействуем и перемещаемся по ландшафтам, населенным другими существами и силами, такими как мы сами, — чувство-и-мышление вместе с в той же степени или даже больше, чем чувство-и-мышление о. Будучи одним из аспектов нашей идентичности, сосредоточенной вокруг тела и эротики, гендер естественным образом является вектором для соотнесения с землей способами, которые зачаровывают, особенно в антианималистической среде.
Что если наша способность к разнообразным гендерным идентичностям исходит не только из современной культуры, но из того, откуда мы, и наших неизбежных отношений с живым миром? Тот факт, что многие из нас живут жизнью, не слишком тесно переплетенной с плотью и кровью окружающих нас экосистем, не означает, что наши идентичности оторваны от экологических реалий. Вместо этого это призывает нас пролить свет на то, как эти связи все еще существуют в скрытых, подсознательных и тревожных формах.
Пинар часто говорит, что их гендер — «прибрежный», чувство, возникшее из встречи с пустынным ручьем в годы их отрочества. В то время у них не было никакого контекста для такой идентичности. Однако через серию встреч, которые превратились в паломничества, Пинар стали учиться у этой конкретной дикой реки, в том числе тому, как эта река создавала себе место в сухом ландшафте — особенно после того, как годом ранее ее освободили от дамбы. Это родство помогло им осознать тот факт, что они никогда не могли артикулировать свою трансгендерность в терминах доступного языка и культуры, пока основывались на очень бинарных (и западных или европоцентричных) представлениях о мужском и женском, и позиционировали переходы через эту бинарность как вершину транс-опыта.
Изучив космологию кечуа более глубоко, Пинар узнали, что текущая вода (например, реки и ручьи) рассматривается как воплощение мужского духа, в то время как стоячая вода (например, озера и пруды) рассматривается как место обитания женских духов — что глубоко подтверждает их собственное чувство воплощения прибрежного мужского начала. В конце концов, они пришли к идентификации с якурунами, пресноводными духами, которые изобилуют в их матрилинейных ландшафтах, а также с квариварми (Quariwarmi), людьми третьего гендера, которые подвергались агрессивным преследованиям, когда конкистадоры столкнулись с инками. Для Пинар утверждение этих форм гендера как центральных для образа жизни и космологии — а не излишних, как, похоже, думают некоторые критики гендера — было формой реиндигенизации (возвращения к корням).
Наши тела — единственные ландшафты, единственные частички дикой Земли, которые никогда нас не покинут.
Со (So) выросли с чувством и опытом нахождения где-то между полярностями гендерной бинарности, и в конечном итоге зонтик трансгендерной идентичности предоставил больше всего пространства для их экспрессии. Но Со, также мистик в душе, всегда чувствовали, что в трансгендерном опыте, как его представляют на современном Западе, было что-то «слишком светское» и «слишком человеческое». В их опыте гендерного несоответствия был опыт животного: они нашли резонанс с парнокопытными животными — оленями, овцами, козами. Эти существа воплощали грацию, легкость походки, а также мускусную приземленность. Это создало архетип себя, который был необычным, даже парадоксальным, в Америке 1990-х годов. Фавны или сатиры, супруги Диониса и форма деревенского аркадского бога Пана стали ранним символом их квирности, у которой не было своей культурной родины. Со привлекла не сексуализированная природа этих существ (хотя именно это многие люди связывают с этими мифическими существами), а то, что они являются карикатурами на вульгарную и глупую форму мужественности, у которой нет другой репрезентации. Они были, в некотором роде, родовой формой дрэг-культуры — все еще встречающейся на различных «народных» фестивалях на Балканах и в Средиземноморье (например, кукери), включающих зооморфные костюмы, которые в значительной степени отсылают к пасторальному анимизму.
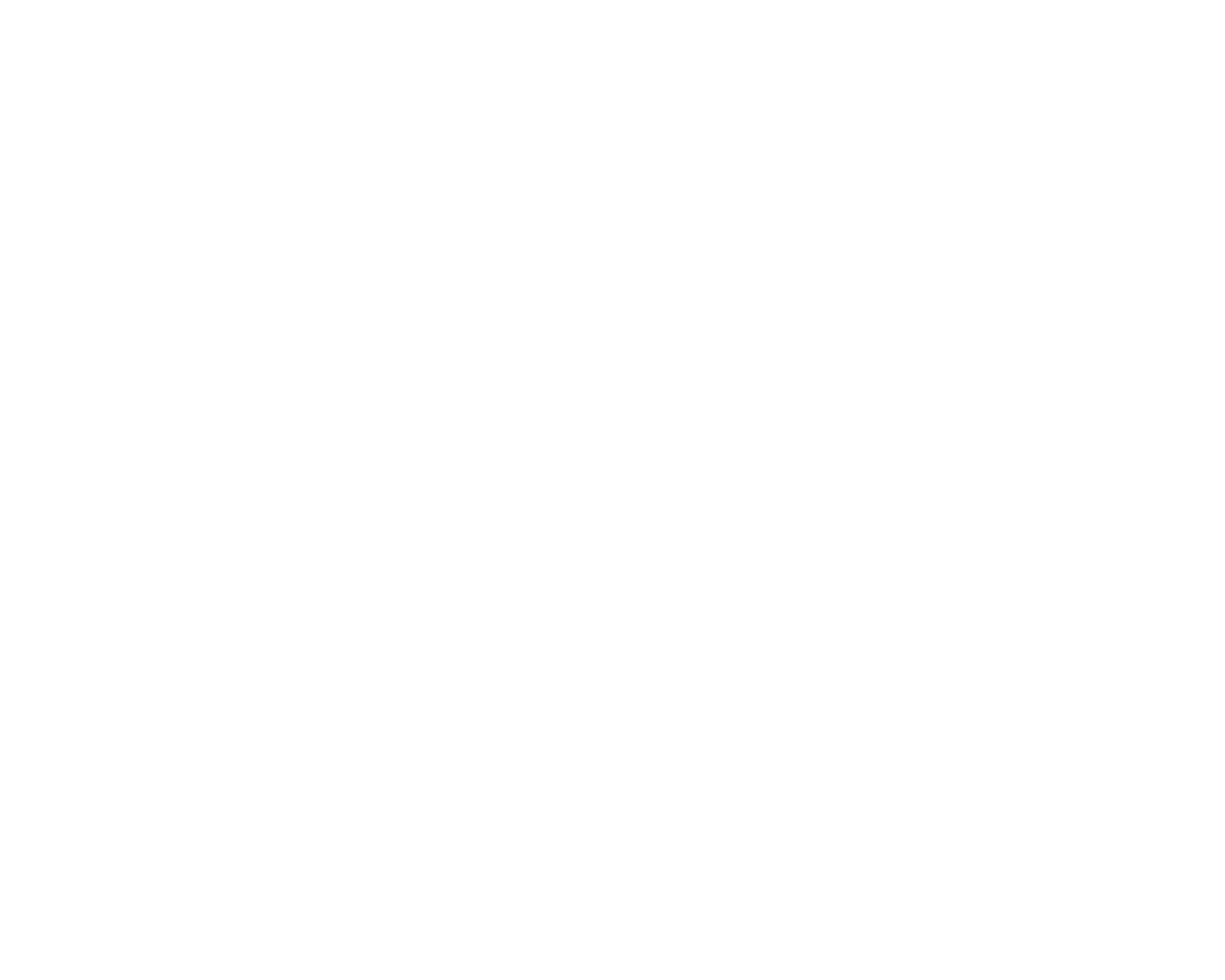
Когда мы встретились и обсудили наш опыт, было нетрудно заметить, что наши мечты о гендере были сформированы нашими предками, а также эко-горем и отрывом образа жизни и знаний от земли. Делясь своими взглядами, мы не пытаемся сказать вам, что мы особенные; мы пытаемся сказать вам, что мы не особенные. Этот опыт более распространен, чем мы думаем. В экологии гибридность часто возникает как реакция выживания в раздробленных экосистемах, иммунная реакция ландшафта или места, пытающегося восстановить определенные функции экосистемы путем грубого соединения двух видов, которые, возможно, раньше не нуждались в соединении. Мы задаемся вопросом, работают ли идентичности аналогичным образом в социальном мире. И все же зооморфизм — воображение и ритуализация нас самих как не-человеческих существ — так же стар, как Homo sapiens, а возможно, и старше. Если наши «я» состоят из отношений с другими, наши «я» всегда включают в себя не-человеческих существ.
Недавно мы обнаружили концепцию «ксеногендеров», термин, придуманный пользователем Tumblr Baaphomett в 2014 году. Ксеногендер (которых, возможно, тысячи и их число растет) — это гендерная идентичность, которая соответствует или выражается нечеловеческими сущностями или силами, такими как животные, абиотические материалы, такие как камень, стихийные силы, такие как ветер, или даже концепции и идеи. Система ксеногендеров находится под влиянием современных терианцев, сообщества, которое находит родство и идентичность с нечеловеческими животными и которое объединилось на интернет-досках объявлений в 90-х годах. Ксеногендер заполняет важный лексический пробел в современной и постмодернистской культуре, поскольку он допускает понятия и воплощения гендера, которые не сосредоточены исключительно на человеческом мире — таким образом, он создает вторжения в постчеловеческое для гендерно-творческих и гендерно-вариативных людей. Это также создает разрыв в настойчивости современности, что магия находится в упадке, и мир должен быть или должен быть побежден всеми тайнами в угоду технонауке. Постмодернизм также опровергается, поскольку по большей части он не смог создать пространство для повторного обретения смысла в глобализованном и культурно релятивистском мире.
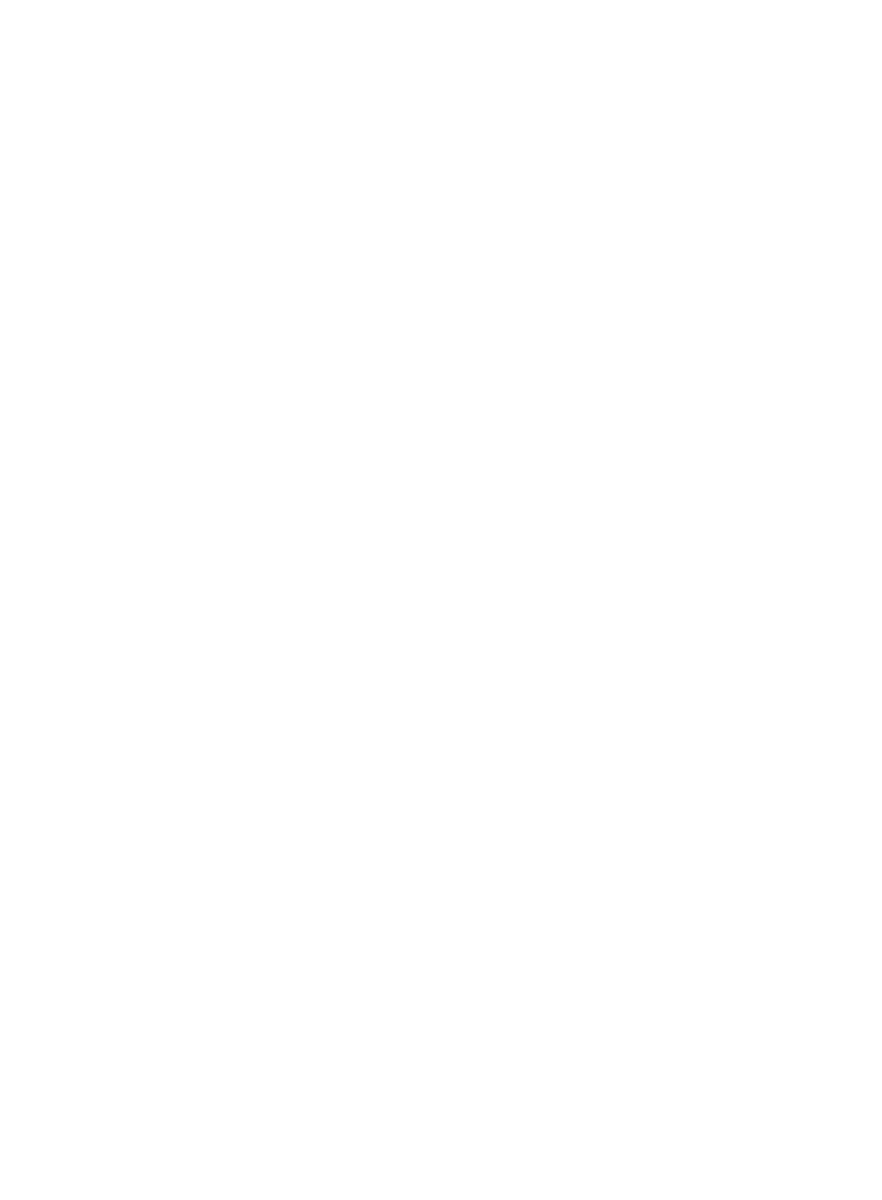
Хотя некоторые гендерные эссенциалисты могут утешиться аргументом о том, что трансгендерную идентичность можно увидеть при сканировании мозга, многие будут в ужасе от возможности того, что ксеногендеры никогда не будут объяснены западной наукой.
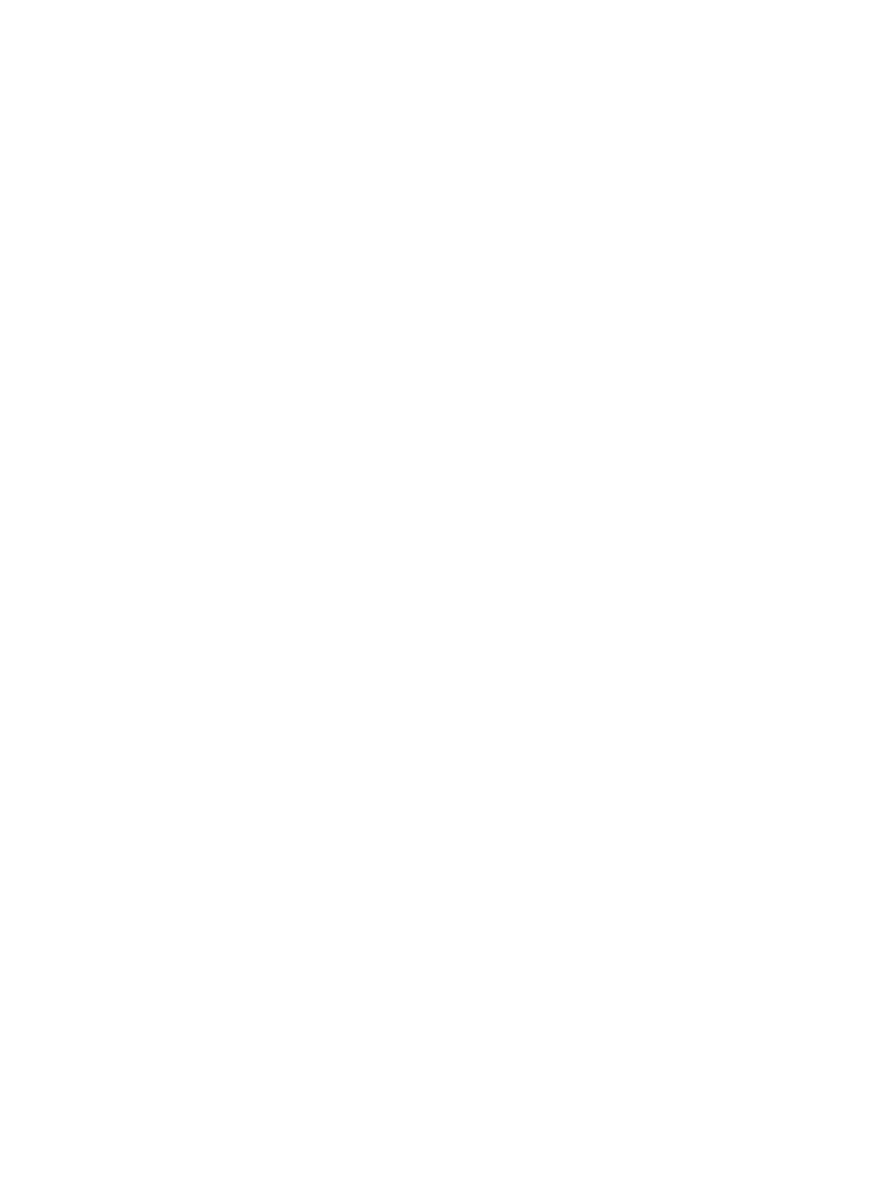
В то же время важно подчеркнуть, что антропозооморфизм и оборотничество человека в животное вовсе не являются чем-то новым. В книге Эдуардо Кона «Как думают леса: к антропологии за пределами человека» мы узнаем, что некоторые народы, говорящие на языке кечуа, видят в ягуаре (пуме) парадигму достойной личности и, следовательно, считают себя «становящимися ягуарами» в течение своей жизни, как следствие взросления и принадлежности к земле. Идентификация с ландшафтом также не нова: многие космологии коренных народов по всему миру объединяют некую краеугольную особенность их родины— например, реку — с их сущностью как людей. Во многих местах это подкрепляет логику защиты земли от колониальных и неоколониальных вторжений и вторжений. Личности коренных народов часто неразрывно связаны с землей и местом способами, для которых у западного общества не было языка.
Вторя этому, Хусто Окса, учитель из числа коренного народа кечуа, цитируемый в книге Марисоль де ла Кадены «Земные существа», делает важное различие: «Важно помнить, что это место [сообщество] — это не то, откуда мы родом, это то, кем мы являемся. Например, я не из Уантуры, я — Уантура».
Вторя этому, Хусто Окса, учитель из числа коренного народа кечуа, цитируемый в книге Марисоль де ла Кадены «Земные существа», делает важное различие: «Важно помнить, что это место [сообщество] — это не то, откуда мы родом, это то, кем мы являемся. Например, я не из Уантуры, я — Уантура».
Что насчет способности постчеловеческих идентичностей, таких как ксеногендеры, выражать крик или молитву с Земли, из лесов и рек, которые преследуют нашу психику как своим отсутствием, так и своим присутствием? В глобализированном контексте, в котором и колонизированные, и колонизаторы были вытеснены с наших различных родных земель или лишены образа жизни, основанного на месте, наши тела являются единственными ландшафтами, единственными частичками дикой Земли, которые никогда не покинут нас. Использование их для мифов и ритуалов, в качестве алтарей странного, мутантного, чудовищного или великолепного «я» — это путь к экологической и космологической согласованности в несвязные времена. Возможно, квир и альтернативные гендеры (и все гендеры) — это не просто что-то, созданное исключительно людьми, но и то, в чем мы принимаем участие, сотрудничая с системами Земли, чтобы восстановить утраченные или находящиеся под угрозой исчезновения связи.
Радость, красота и создание смысла возможны даже в условиях коллапса, фрагментации, дефицита.
Эти многочисленные идентичности/воплощения не ограничиваются квирностью с ее человекоцентричными историями, но, возможно, лучше описываются парадигмой странности, квирификацией самого понятия личности, возвращения к изначальному значению слова «квир» как чего-то уникального, загадочного или таинственного. Древнегреческое слово xenos, этимология xenogender, буквально означает странный (strange) или чужестранный — незнакомец или иностранец. Strange, от латинского «внешний», относится к чему-то «извне», что казалось бы не должно быть здесь, но все же присутствует — его маловероятная принадлежность оскорбляет наши представления о мире. В книге «Странное и жуткое» покойный Марк Фишер описал «Странное» как похожее настроение: не на своем месте, но существует. Мы ассоциируем эти настроения с ужасом или жутью, но в эти времена экосоциального перелома они могут с таким же успехом быть предвестниками священного или экосистемы, пытающейся сшить себя заново во что-то новое с помощью спасенных частей. Когда статус-кво становится токсичным и разрушительным, то то, что является странным или необычным в этом контексте, может указать путь вперед, в соответствии с первоначальным значением «апокалипсиса» как раскрытия того, что больше не работает, и переориентации того, как жить на Земле.
Некоторые встречи с жизнью или смертью, не относящимися к человеческому миру, несут на себе отпечатки этого вида странности: воспоминание о том, как мы держали в темноте палку, полную мицелия, который светился зеленым от биолюминесцентных грибов; наткнулись на только что убитого оленя, чья кровь еще не застыла, недавно подвергшегося смертельной хватке горного льва; нашли птичье гнездо, сплетенное из змеиных шкур и пластика; услышали вой койволков около канадской границы или крики диких попугаев в Лос-Анджелесе.
Это поразительные, мимолетные присутствия, которые преследуют нашу сильно опосредованную культуру своей реальностью, силой и тем, как они существуют практически вне человеческого мира, как и большая часть вселенной. Следы, которые для натуралиста означают отсутствие (но мифическое или будущее присутствие), это изображения, выстилающие наши храмы. Так что странное также является эстетической парадигмой, которая создает иконографию внутренних разрывов и вторжений в цивилизацию, вызванных присущей дикостью жизни и смерти. Эти разрывы манят нас в животность и анимизм, из которых мы пришли, реальный статус-кво глубокого времени.
Возможно, пришло время, чтобы странное снова стало знакомым.
В нашу апокалиптическую эпоху странность и гиперреальное чувство неустроенности разнообразными и расходящимися формами воплощения — включая гендер — могут быть знаками того, что мы добавляем к нашей способности отслеживать принадлежность и процесс, перефразируя Донну Харауэй, находя себе родню в странные времена. Поскольку мир становится страннее, страннее становимся и мы, экологические существа, которыми мы являемся. Возможно, эти навязчивые и загадочные образы и мечты о себе и душах за пределами человека помогут нам романтизировать дальнейшую ответственность перед нечеловеческим и перед нашими многочисленными возможными будущими.